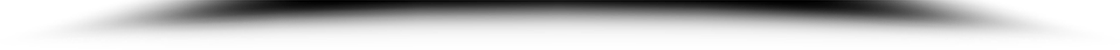Все будет хорошо
или
аколь беседер
Истории из жизни Израильтян (рассказы-картинки)
Что ж, нажимайте на картинку и узнаете, как за ней прячется история!
Песнь Песней.
Чай пах слезами.
Тами ковыряла засохшее пирожное, размазывала крем по бумажной тарелке, глотала горячую безвкусную воду и старалась не заплакать.
Золотистые волосы лезли в глаза, новая стрижка раздражала, модный маникюр с серым лаком казался мрачным и неуместным.
Все, все было не так.
Он не пришёл, какая банальность, стыдно даже вздыхать, а уж тем более плакать из-за самовлюблённого павлина, уговаривала она себя. Ну и плевать, пойду погуляю в старом городе, раз уж я тут. И наверняка встречу что-нибудь новое и настоящее.
Правильные слова из женского журнала не помогали.
Обида лежала сырым тестом под ложечкой и сдавливала горло.
Тами ждала пятьдесят восемь минут, а плакать ей хотелось уже полчаса. Коленки стали мягкими, как зефир, пальцы свело на ручке белой чашки. Надо уходить, сказала она себе, вырывая последний стебелек хилой надежды. Чудес не бывает. Глупо было надеяться. Все, как всегда.
Серьезно, неужели она поверила в чудо, когда он ответил ленивой улыбкой на ее отчаянное приглашение? И только все ее бессонные ночи заставили услышать в небрежном «посмотрим, как получится» обещание, и только безумная мечта заставила ее сидеть час и надеяться, надеяться…
Тами шла по любимым переулкам старого Яффо. Ее несчастная любовь волочилась за ней, как облезлый лисий хвост.
Тами шла, опустив голову. Глаза казались тяжелыми мешками с песком и не хотели смотреть по сторонам. Унижение кипело в ней, не давало вздохнуть и горькой пеной выплёскивалось на гладкие рыжие камни мостовой.
Тами шла, вдыхая тёплый запах Города, запах из сотни нот, грубых и назойливых, нежных и чуть слышных, манящих и отталкивающих, запах сотен лет, впитавшихся в белые ставни и терракотовые стены.
Тами гладила шершавые желтые кирпичи и синеву железной рамы.
Похлопала кривое дерево, назло всем прорвавшееся в щель между камнями и росшее кое-как, лишь бы хватало света и пары капель дождя.
Пожалела, что не горят разноцветные лампочки гирлянды, что тянулась между домами. Порадовалась, что заменили стеклянный шар фонаря, разбитого неделю назад.
Поймала мимоходом взгляды парней, болтающих у спуска, порадовалась своей новой стрижке и задорным прядям, падающим на лицо.
Так и серый маникюр снова станет модным и манящим, хихикнула она, обернувшись и подмигнув обалдевшим приятелям.
Волшебный Яффо подхватил ее, закружил, крепко и чуть неприлично прижимая к себе.
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими… Вся ты прекрасна, и пятна нет на тебе!
Возлюбленный мой, отвечала Тами, лучше десяти тысяч других: голова его — чистое золото.
И ещё говорила она: Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями.
Так шла Тамар, прекрасная дочь израилева, улыбаясь себе и миру, шла, и ноги ее едва касались камней древнего города, боги и давно ушедшие герои гладили ее по плечам, море и музыка ждали ее за поворотом.
Маленькая, неприметная девушка, совсем недавно тяжело и бессмысленно влюблённая в глупого человека, летела навстречу счастью в пряном воздухе старого Яффо.
Летела быстро и конечно же, споткнулась. Ну, так всегда, успела горько подумать, когда ее поймали крепкие руки. И кто-то сказал, смеясь: о, какая красота, и прямо под ногами!
Тами посмотрела снизу в лицо веселому спасителю. Закатное солнце плеснуло в глаза, ослепило, оставив лишь силуэт и тень улыбки.
Он наклонился и прошептал ей: …встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
Тами зажмурилась.
Так не бывает, подумала она и грустно ответила: я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне.
Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! — сказал он очень серьезно, любуясь ее огненными кудрями в свете заката.
И она вдруг поверила.
Прекрасная Тамар, нашедшая счастье в старом Яффо в седьмом часу вечера, перед закатом, ревела на плече у хохочущего и крепко обнимающего ее мужчины.
Ты больше никогда не будешь одна, моя ненаглядная, говорил он ей.
Никогда не будешь горевать и злиться.
Все теперь будет хорошо, говорил он, не плачь больше, прекраснейшая из женщин, все будет хорошо…

Ice-cream dream
Мика очень, очень, очень любил мороженое.
Ну то есть он так думал, что он его любит. Потому что мороженое он пробовал один раз в своей жизни, откусив украдкой от эскимо подружки Лизы в школе. Мама запретила ему Даже Думать о мороженом, потому что Сам знаешь почему.
Мика знал, понимал и осознавал. Мика был очень серьезным шестилетним мужчиной. Он не плакал, не ныл, не жаловался. Он понимал — если случится Самое Страшное и он Заболеет, Мама этого Не Вынесет. Мама уже пережила Страшное Горе, и Второй раз Сведёт ее в Могилу. Мика очень боялся этой страшной Могилы, чем бы она ни была, и очень боялся расстроить маму. Мама не кричала, упаси Боже, но смотрела на него огромными глазами и сжимала рот в узкую полоску.
Нет-нет, Мика не хотел расстраивать маму.
Но прекрасный, волшебный, леденцово-тягучий тающий на языке вкус мороженого запомнил и иногда мечтал о нем, как другие мечтают полететь в космос или ещё что-то такое же несбыточное. Мика был реалистом.
Микина мама Фаина действительно пережила страшное горе. Ее первый сын рос почти здоровым ребёнком, и даже к астме своей относился весело и легкомысленно. Ай, мамочка, что может случиться, столько хороших лекарств, отмахивался он, уезжая в горы кататься на лыжах или в пещеры исследовать какие-то там рисунки.
А вот однажды лекарства не помогли или их не оказалось, но Фая, приехав после выходных от родителей, обнаружила сына на полу без сознания, с синими губами. Так он и умер у неё на руках, пока ехала Скорая.
Через восемь лет Фаина, высохшая вполовину от себя прежней, приняла твёрдое решение: она родит ещё одного ребёнка и уж его будет контролировать так, чтобы никогда и ничего… никогда больше…
И контролировала.
Слава Богу, Мика рос умненьким и послушным, тьфу,тьфу,тьфу.
Они как раз возвращались после очередного профилактического осмотра (доктор знал Мику с рождения, другому Фая не доверяла).
Липкий и душный июльский вечер только начинался, а вода как раз уже кончилась.
Фаина посадила Мику на скамеечку в тенек, проверила, не слишком ли он нагрелся, расстегнула рубашку на две пуговички, но не сильно, чтоб не продуло, оглянулась, нет ли рядом больших собак или подозрительных людей, и бегом рванула к магазинчику за водой.
Мика смотрел, как люди едят Мороженое.
Разное мороженое. Кто-то облизывал эскимо и оно стекало сливочным ручейком по глянцевому шоколадному боку. Кто-то окунал ложечку в упоительную вишнево-белую массу и черпал этой ложечкой с самого дна, перемешивая слои в дивный узор. Кто-то откусывал от простого вафельного стаканчика, языком ловко подбирая торчащие сахарные льдинки.
Мика так отчаянно захотел этого запретного невозможно прекрасного, что зажмурился, глотая слюну, и взмолился доброму Богу, которого нельзя называть по имени: «Господь мой единственный, пожалуйста, сделай чудо, и пусть мне хоть один раз в жизни будет можно немножечко мороженого. Но если совсем нельзя, то ладно, тогда не надо. Но если хоть немножко можно — тогда, пожалуйста, капельку. Эскимо. Или хотя бы стаканчик самый-самый простой.»
Он сидел, выпрямившись в струнку, в своей неистовой молитве не замечая, как из-под зажмуренных глаз катятся слёзы горохом.
У Фаины чуть сердце не разорвалось, когда она увидела, что ребёнок, зажмурившись, шевелит губами, а лицо его все в слезах.
— Микеле, — кричала она, лихорадочно его ощупывая, — что случилось, что болит, ты перегрелся, ушибся? Тебя кто-то обидел?
— Мама, — тихо сказал Мика, не открывая глаза. — Мама, знаешь что? Я.. я Так Хочу Мороженого, Мама.
И заревел уже открыто, презирая себя за слабость.
Фая онемела.
Несколько бесконечных минут она сидела на корточках, с рукой в кармане. Полезла за платком и забыла.
Потом выпрямилась, сглотнула и не своим голосом спокойно спросила:
— Какое мороженое ты хочешь, Мика?
Мика рыдал, уткнувшись в кулачки.
Она села рядом, крепко обняла его и ещё раз тихо спросила на ушко:
— Какое мороженое, Микеле? Шоколадное, пломбир? Клубничное с орехами?
И почувствовала, как внутри тает проклятый лёд того страшного дня, когда она открыла дверь и увидела синие губы своего ребёнка. Это другой ребёнок, сказала она себе наконец. А я здесь. А он живой. И хочет мороженого, ты, проклятая дура!
-Пойдём, — сказала Мама и потянула Мику за руку. — Пойдём выберем тебе любое мороженое, какое ты только захочешь. И не плачь, жизнь моя, все будет хорошо, честно-честно…
Мика понял — все и вправду будет хорошо.

Невеста
Она всегда ждала его у открытого окна. Жара или зимние дожди — это окно было открыто всегда.
Вечером она включала сливочно-жёлтую лампу и сидела под ней, сложив руки на столе, прикрыв глаза и слушая пятую симфонию Малера.
Сидела неподвижно, спокойно, как вода в омуте, и лишь когда начиналась четвертая часть, ее пальцы начинали потрагивать в такт, а губы слегка шевелились.
Знаешь, сказал он ей тогда, Малер написал эту симфонию любимой и прислал ей без единого слова — просто такое признание в любви. Понимаешь? Ты понимаешь, что это была за любовь?
Она смотрела серьезно и кивала. Тогда ей казалось, что она понимала его.
Но поняла она позже, гораздо, гораздо позже.
Он вообще был неразговорчив.
Он мог принести цветок и пять кило картошки, чтобы она не таскала тяжелого, мог торжественно вручить шоколадку и билет на выставку, который она так пыталась купить, мог починить кран и улыбнуться. Он улыбался так, что у неё заходилось сердце, и она забывала, как дышать.
Но говорить он не любил и в любви признался только один раз, в школе ещё.
И он никогда, никогда не рассказывал ей о своей работе.
Она была старше его на два класса. Ему 16, ей почти 18. Огромная разница, непреодолимая разница, если ты лопоухий подросток, а она самая красивая и умная девочка во всей параллели. А может и во всей школе.
Но когда она уходила в армию, когда она грузила свой огромный солдатский рюкзак в автобус, именно он перехватил ее руку, сказав: дай, помогу. И стоял на остановке, запрокинув лицо и смаргивая упрямые слёзы, ловил ее взгляд.
А потом она его провожала в армию. Она специально отпросилась у Тоби, своего командира, сказала: жених в армию идет. Тоби немножко удивился, потому что до этого никакого жениха вроде бы не было, но отпустил, пробормотав: ну, мазл тов…
Она ему так и сказала: я перед командиром назвала тебя женихом, посмей только не жениться через три года. Он зажмурился и обнял ее так крепко, что крепче уж некуда. Он к тому времени здоровый стал, как медведь. Ее медведь.
А после армии ему предложили службу в том особом подразделении, о котором он ей ничего не рассказывал. Только иногда всю ночь сидел и курил на балконе. И сливочно-желтая лампа освещала сгорбленную спину.
Свадьбу отложили на год. Он хотел войти мужем в свой дом, и даже присмотрел, какой. Немного заработать нужно, объяснил он ей.
И однажды он просто ушёл на работу. Сказал, что его не будет несколько дней, обычное дело. Чтобы она не волновалась и не таскала тяжелое на четвёртый этаж. Приеду, сам куплю, сказал он. И ушёл.
Через полторы недели, открыв дверь и увидев военного и ещё двух в штатском, она сказала: нет, уходите. Я не хочу вас слушать, я не буду вас слушать!
И не слушала. Стояла, зажмурившись и заткнув уши пальцами. Военный сказал: ну, вот хоть это возьми, он просил передать, если вдруг…Перед тем как… уехать…
Оставил диск на столе и ушёл.
Она выдохнула, подошла и онемевшими руками сунула диск в плеер. Она знала, она понимала, что она услышит.
Четвертая часть, adagietto Малера, мольба о прощении, острое сожаление, нежная страсть и вечная любовь, вечная невыносимая любовь…
Нет, сказала она Малеру, нет, я буду ждать. Тела не нашли. Он жив. Он найдётся. Были разные случаи. Он вернётся.
И она ждала.
Зимой и летом у открытого окна, у желтой лампы.
Сидела спокойная, как вода, и думала: когда он вернется, я скажу ему, что я слушала пятую симфонию Малера четыре тысячи двести семьдесят пять раз. Понимаешь, какая это любовь? Но теперь ты здесь и все будет хорошо.
Да, шептала она в такт музыке, все будет хорошо…

Душа моряка
Была в нем эта черта — несокрушимое еврейское упрямство.
И когда он сбегал из иешивы, хорошей, правильной иешивы, куда отец с трудом его устроил; и когда он, уставившись в пол, тихо сказал — я не буду учить Тору, я хочу стать моряком — отец побледнел, пошатнулся и сел мимо стула, а мама, тихо плача, поднимала его; и когда он ушёл из дома, из общины, сбрил бороду и новенькие, только что дорощенные до нужной длины пейсы — и рыдал ночами, и бил кулаком подушку; и когда его шпыняли и дразнили белоручкой, девчонкой и кое-чем похуже на корабле, потому что его руки не знали ничего, кроме свящённых страниц; и когда его усиленно приобщали к некоторым, да что там, практически ко всем сторонам незнакомой ему светской разгульной жизни, а он с ужасом думал, неужели все так живут; когда вся его жизнь ломалась, хрустела черепками под его новыми морскими ботинками — ни разу, ни единого разочка он не подумал: а вдруг я ошибся, а вдруг это не мое, вдруг я пожалею.. И ни разу он не пожалел.
Море было его жизнью, его любовью, злобной стервой и нежной матерью.
Семья отказалась от него, он стал сыном волн.
Он никогда не говорил о прошлом. И вскоре даже те, кто смеялся и дразнил бывшего ортодокса на корабле, успокоились и забыли. Парень и парень, малость с придурью, не пьёт, зато курит, как паровоз, по бабам его не вытащить, зато поёт под гитару, как бог. Нормальный в общем, жить можно.
Он любил ночные вахты, предрассветные.
Он молился на утреннее солнце, на холод его и запотевшие окна. Он тихо говорил слова для Бога — и не было никого между ними, только зелёные волны от края до края.
Он просил покоя для своего отца, потому что знал, что боль и стыд за сына-отступника ничто по сравнению с болью и стыдом отца-отступника. И страшная вина отца перед сыном скоро сгрызет это тёплое любящее сердце.
Он просил отцу покоя — но никогда не просил прощения.
Матери он писал письма тайком, через соседку.
Та не соблюдала, жила вольно и частенько зазывала молоденького иешивиста попить кофе. Он, конечно, отказывался, но она не обижалась. Вот ее он и попросил передавать матери короткие записки, которые он присылал из разных портов.
Он взрослел, руки его давно потеряли пухлость, кожа стала жесткой и темной, а взгляд — спокойным и твёрдым.
Он готовился идти в армию.
Он отрывал все эти ниточки и корешки, что ещё связывали его с детством, днями в иешиве, разговорами мужчин и шепотом матери.
Он рвал все связи — и неожиданно поступил в Открытый университет на курс иудаики.
Бог меня не выгонял из своего дома, объяснил он удивленному другу. Бог не отказывался от меня, а я от него.
И однажды он признался себе, что тоскует по тихому шелесту страниц, бормотанию учеников и размеренному голосу учителей.
Я не умер, не потерял память, я не другой человек, — думал он, — все мое во мне, и во мне это все и остаётся.
Вся моя любовь больше, чем море — я люблю и море, и отца, и мать, и Бога.
Я не буду свою любовь резать на лоскутки и раскладывать по разным углам, я такой, какой есть. Упрямый, жестоковыйный (stiffnecked), любящий и любимый.
В этот день он написал отцу.
Папа, писал он, если бы ты мог видеть моими глазами.
Море, писал он, оно прекраснее всего на рассвете, когда холодный туман ползёт по стеклу рубки, а впереди только солнце и волны.
Бог, писал он, никогда не оставлял меня, папа, а я не оставлял его.
Папа, я так люблю тебя, мне так вас не хватает.
Сильно постаревший за последние годы, ссохшийся, но все ещё очень упрямый мужчина рыдал, сжимая исписанный листок желтой бумаги, повторяя: сынок мой, морская душа, жизнь моя, сердце мое.. теперь все будет хорошо, сынок, все будет хорошо…

Земля обетованная
Она приехала после тяжелого и некрасивого расставания с мужем, после потери любимой работы, гнусного болота нелюбимой работы и кардинальной смены всей жизненной парадигмы в обнимку с безденежьем.
Ложь, унижение и страстное желание забраться под одеяло ичтобвсесталокакбыло, бывшие любимые, а сейчас ненавистные глаза — все это смешалось в один шершавый отвратительный ком, стоящий в горле и не дающий вздохнуть.
Она уезжала, как ныряла в омут — утону так утону, хуже не будет, лишь бы подальше от всего этого.
И вдруг, прямо в аэропорту, после сухого и горького прощания, глядя, как уезжают ее огромные сумки по багажной ленте, она ощутила, что этот колючий шерстяной комок растворяется внутри, а вместо него приходит отчаянная надежда и легкость.
В самолёт она уже шла, почти пританцовывая — в животе порхали бабочки, ага, те самые!
Она летела, как летят домой к маме, после долгой изнурительной болезни — отсыпаться, хорошо кушать и ни о чем не беспокоиться.
Она вдруг почувствовала, что сзади лязгнула железная дверь ее вечного долга кому-то, и поняла, что свободна. Совсем. Совсем свободна.
И больше ее уже ничего не беспокоило и не волновало.
Ни долгое ожидание документов, ни такси, которого не было, ни выходные, из-за которых все оформления переносились бог знает на сколько.
А глядя в окно такси на прекрасную зеленую долину, она улыбалась и шептала себе: вот она, Земля обетованная, я вернулась, я здесь…
И все решалось, все делалось, леат-леат, потихоньку и без нервов.
Савланут, говорила она себе, засыпая с улыбкой, савланут, терпение, мне больше некуда спешить.
И чувствовала, как ее гладят по голове… Все будет хорошо, милая, шептали ей, все теперь будет хорошо.
Пара
Они и познакомились как раз на этих стульях, что стоят в парке Меир, оба приходили выгуливать собак.
Собак отдавали на площадку, а сами садились и болтали без умолку: о работе, о начальниках, о собаках и кошках, о кораблях и ракетах, а потом о детстве, о чувствах. И о любви потом тоже говорили, сначала неловко улыбаясь, а потом уже и говорить не надо было, сидели на одном стуле и шептали всякие глупости и нежности, не обращая внимания на людей, идущих по аллее мимо.
По этой песчаной аллее она сейчас и брела, оледеневшая, ослепшая и онемевшая, не думая, не чувствуя ничего.
Где-то на краю сознания болела память о его взгляде, раздражённом и пустом. Невыносимо жестоком. Как и его слова: а ты ещё что тут забыла?
И рука его, гладящая чужое плечо.
Совсем юные подростки ошарашенно переглянулись, увидев ее лицо.
«Надо помочь, — сказала девочка, — ей совсем плохо». «А как?» —спросил мальчик. Девочка задумалась.
Пока она думала, по дорожке мимо них пробежал мужчина, догнал женщину, схватил ее за плечо, повернул, прижал к себе.
Она, не веря себе, смотрела в серые глаза, тёплые, полные слез, родные.
Прости меня, прости меня, пожалуйста, прости — повторял он.
Больше ничего не мог сказать, не понимал, как все исправить, как объяснить это дурное наваждение, которое растаяло, когда она вышла из того проклятого кафе, шагая, как кукла на деревянных ногах.
Она пошатнулась, в ледяной глыбе внутри что-то треснуло, и тёплой ниточкой скользнула надежда.
— Давай сядем, — засуетился он. И усадил ее на знакомый стул. Сам сел на землю и прижался к ее коленям, молча, надеясь на чудо и прощение.
— Не надо, не сиди на земле, холодно уже, — шершавым голосом сказала она. Положила руку ему на голову, слегка сжала прядь.
— Ничего, — пробормотал он, обмирая от радости, — мне и так хорошо. Все хорошо теперь будет, все хорошо.

Небо
Мама назвала его старомодным именем Саул. Царское имя, говорила она. Первый царь Израиля. Благородный и отважный. Немножко нервный, конечно. Но все равно очень достойный. Шаул а-мелех — называла она его, — мой царь Саул.
Если честно, он это имя ненавидел. Но маме не говорил, не хотел ее расстраивать. Проезжая остановку «Шаул а-мелех», он каждый раз мысленно кривился и потом злился на себя, что реагирует на такую ерунду.
Будущий лётчик должен быть сильным и хладнокровным, говорил он себе. Иначе это не лётчик, а… лягушка какая-то.
Летчиком он хотел стать с трёх лет, а может и раньше, как только первый раз разглядел в небе самолеты в День независимости. И понял, что это такое. И что там сидит человек, и этот человек летает в этом синем прекрасном небе.
Он готовился к армии, он был уверен, что пройдёт по тестам и когда его спросят, скажет: конечно, авиация! Шаул а-мелех должен летать!
Но он не прошёл. Немного не добрал. Это был хороший результат. Но не авиация.
Ему было все равно, где служить. Он вообще плохо помнил все, что дальше было. С некоторым удивлением он обнаружил себя на Голанах, на бывшей сирийской базе. Он подумал: ну и ладно, отслужу и пойду в гражданскую авиацию. Все равно буду летать. Я Шаул а-мелех, я справлюсь.
В инженерных войсках, в отделении по разминированию серьезно обучали своих солдат. Но ему было все равно. Делал все механически и не задумываясь.
И так же механически и не задумываясь наступил на мину. Ошибся.
В больнице доктор сказал ему: «Держись, ахи**, сейчас хорошие протезы делают, будешь плясать ещё. А самое главное у тебя уцелело, счастливчик…»
А он думал: «Мне нужно летать. Мне нужны очень хорошие протезы. Мне нужны живые ноги. Я Шаул а-мелех, я справлюсь!»
Его старт-ап стал самым успешным по итогам года. Биотехнологии вообще хорошо развиваются, и инвесторы их любят.
Его хвалили за отличное бизнес-чутьё. За несокрушимое упрямство, которое в бизнесе называется силой. За порядочность, редкую для пробивающихся наверх молодых стартаперов. Наш царь Саул — он не знал, что его подчиненные зовут его так. Любили его.
Немножко нервный, говорили про него. Ну так это понятно, в инвалидном кресле небось любой нервничать будет. Но какой же хваткий умница…
А он, сидя в своём кресле у окна на верхнем этаже, каждый День независимости завороженно смотрел на парад авиации.
Синее небо и белые раздваивающиеся следы на нем.
«Я Шаул а-мелех. Я буду летать. У меня есть время. Все будет хорошо.»

Девушка на мосту
Ничего его не радовало больше.
Ни море, ни работа, ни зарплата… очень неплохая, между прочим, для недавно приехавшего.
Он устал улыбаться, хлопать по плечам почти незнакомых ему людей, кричать: доброе утро, брат! Или: как дела, брат? Отлично, брат, у меня все отлично, лучше не бывает…
Брат, брат, а когда он валялся с температурой под сорок, хоть бы одна зараза позвонила или зашла…
Он устал быть один в праздники, которые ему так и не стали своими. И в праздники, о которых тут никто не слышал.
Он стал уходить днём с работы — просто посидеть у моря, побыть одному, подальше от этих шумных и чужих ему людей.
Он заметил ее недели через три — о, вот опять эта девочка со своими дворнягами… потом поймал себя на том, что старается подгадать к тому времени, когда она обычно проходила по мосту, выгуливая своих смешных беспородных собак.
Он ее даже толком разглядеть не старался.
Так, милый силуэт на фоне моря — ножки, смешной хвостик, тонкие запястья… но горло сжималось от непонятной нежности.
Он решил, что ее зовут …Мари! Конечно, Мари.
И приехала она…, скажем, из Франции. Да, точно из Франции. Из небольшого городка, недалеко от Парижа.
Ее не слишком уже молодые родители были так напуганы всеми этими последними событиями, что за полгода собрались, все распродали и приехали сюда, в этот приморский городок Израиля. Конечно, тут у них были знакомые. И даже… ну, допустим, тетя Софи. Им не приходилось сидеть одним дома, когда все вокруг пели и плясали на Пурим…
Мари, конечно, была сильно расстроена, совершенно не хотела уезжать и бросать приятелей, а самое главное, учебу. Училась она, конечно, в Сорбонне, на историческом…
Моя Мари умница, умиленно думал он. Не заучка, не синий чулок, а милая, интеллигентная молодая женщина. Конечно, она переживала, что пришлось бросить учебу. Теперь как ей тут ещё поступать, беспокоился он, язык нужно учить, сдавать всякое недостающее. Подрабатывать ещё, конечно… Бедная моя девочка, думал он. Совсем забегалась с этой подготовкой. Но родителей она, конечно, любит, бережёт, молчит. Тоже улыбается и всем говорит, что все прекрасно!
И нет, у моей Мари тут нет никаких парней. Она серьезная. Но веселая. И смех ее похож на тёплое молоко…
Так он сидел и думал о своей Мари.
Девушка на мосту появлялась и исчезала, солнце садилось, дул ветер, пахло морем…
Он вставал, шёл обратно, улыбался и хлопал по плечу кого-то — да, брат, у меня все великолепно, брат! Все у меня хорошо, брат, а будет ещё лучше, брат…

Яхты в тумане
Прохожие посмеивались, обходя нелепую девчушку, торчавшую с открытым ртом прямо на пляжной дорожке. Некоторые оборачивались, пытаясь рассмотреть, на что она так уставилась. А, яхты, понимающе улыбались они, красиво, да…
В зеленом тумане переливались серебром волшебные бабочки. Они сонно скользили вдоль берега, сходились и расходились — и медленно терялись в дымке.
Дина дрожала и прижимала кулачки к груди. Это было так ошеломляюще красиво, так печально и притягательно, что ей было трудно дышать.
Она стояла так до самой темноты. Проводила взглядом уходящие яхты, всхлипнула и твёрдо решила — вот здесь, в этом городе, она и будет жить.
И через три года она приехала, таща за собой две огромные сумки и двухлетнего Марика. Мариков папа ехать решительно отказался. Как я брошу друзей, работу, маму? ты об этом подумала?! — патетически восклицал он. Дина надеялась и тянула месяц за месяцем, уговаривала и плакала. А однажды нашла в его телефоне письмо от другой женщины и почувствовала, что мутный комок безнадёжности перестал перекрывать горло. Она глубоко вздохнула — и заказала билеты. На себя и Марика.
И не пожалела ни разу. До сегодняшнего дня.
Дина рыдала отчаянно, уткнувшись носом в подушку, подвывая, захлебываясь и задыхаясь, набирая воздух и снова взвывая, как маленькая собачка, получившая пинка ни за что.
Она же была такой сильной, так хорошо держалась, смеялась и радовалась морю и цветам, и Марик радовался вместе с ней. Учила язык, нашла работу. Денег было мало, но хватало на квартирку с крохотным садиком у входа, шакшуку по утрам и мороженое для них обоих. И конечно, можно было бесконечно гулять — в пустыне, по городу и на море! Можно было каждый день гулять по пляжам и набережным и смотреть на море!
И вдруг она сломалась. Из-за ерунды, пустяка, но этот пустяк вдруг вырос в страшную глыбу тоски и придавил ее без предупреждения.
Причин не было. И было огромное множество причин.
Иврит, который упрямо не становится родным и понятным. Одиночество. Усталость. Ужас от мысли — а вдруг со мной что-то случится, что будет с бедным Мариком? А вдруг завтра кончится работа, и она с ребёнком пойдёт рыться на помойках и просить еду. А ещё она состарится в одиночестве. Марик вырастет, а она так и будет бесконечно гулять по набережной одна-одинешенька.
Эти мысли клевали и жалили ее, и она заливалась слезами, ругая себя, бывшего мужа и жизнь, что не давала ей передышки.
Марик тихо стоял за дверью и страдал. Он понимал, что маме плохо, но не понимал, что он должен делать. Мама всегда говорила, что он настоящий мужчина в свои пять лет. И теперь настоящий мужчина ломал голову, как привести маму в порядок.
В открытое окно залетела бабочка. И Марика осенило. Он схватил лист бумаги, краски и быстро-быстро замахал кисточкой.
Дина уже устала плакать, но слёзы все текли и текли, а мысли все грызли и грызли.
Рядом зашуршало, она повернулась и увидела рисунок. Марик стоял рядом и смотрел на неё серьезно и грустно. Он нарисовал большую белую бабочку-яхту в зелёном тумане. На боку яхты кривыми буквами вывел: МАМА. А наверху прямо в тумане улыбалось солнышко. Рыжее и щербатое, как сам Марик.
Дина засмеялась, шмыгнула, вытерлась рукавом и сказала: А пойдём-ка смотреть на море и есть мороженое, да? Может сегодня придут яхты…
Золотой мой, подумала она. Жизнь моя. Все будет хорошо у нас, мой маленький настоящий мужчина.
Мы будем смотреть на яхты и есть мороженое. Все у нас будет хорошо.

Квартет
Если бы его попросили выбрать единственное воспоминание, с которым он бы хотел уйти — он выбрал бы то утро, когда он сидел за пианино на своём высоком стульчике, а в дверь заглянул зелёный хитрый глаз, потом вплыла щербатая улыбка, и вот уже перед ним стоит рыжий мальчик и заложив руки за спину, солидно представляется: Андрей Петрович!
-А? -растерянно отзывается шестилетний Шломик, — Анд.. пет.. , и запутавшись на третьем слоге, догадывается: — ты шутишь так?
— Ещё чего, — оскорбляется Андрей Петрович.
-Ааа… я Соломон, — собрав всю свою волю в кулак, отвечает Шломик. Андрей Петрович по-взрослому сует ему ладошку и усаживается на его же стульчик, потеснив худой шломиков зад.
Вот так, вместе, они и шли дальше по жизни — за пианино, в школе, в армии, везде…
Андрей Петрович с детского сада любил огорошивать новых знакомых, представляясь именно так, и с наслаждением наблюдал, как они корчатся, пытаясь это все произнести.
Ривка была единственная, кто спокойно и почти без акцента повторила его имя, чуть медленнее отчество и посмотрела на него внимательно и серьезно. У Ривки был абсолютный слух и дедушкина флейта. В школе они занимались у одной учительницы, 70-летней Дины из Ленинграда, энтузиастки и бессребреницы. Она оставалась с ними после уроков, восхищалась их талантом и обещала им хорошее будущее, если они не будут лениться.
Дина же и привела к ним Дани.
-Ребята, сказала она, — это Даниэль. Виолончель. Давайте попробуем сыграть все вместе.
Дани шмыгнул и уставился на них из-под чёрных кудряшек. Виолончель была чуть выше него.
Вот так и получился их квартет. Выступали на всех школьных концертах, были ужасно популярны, даже маленький Дани. Он и в последнем классе казался ребёнком, из-за виолончели только грива плохо расчесанных чёрных волос видна была.
После уроков они шли через садик, где стоял смешной столик со стульями-пеньками, кидали рюкзаки, выкладывали всякие печенья и чипсы, кто что взял, и сидели часами, болтая и смеясь. Они назвали себя Дорефасоль. До — Дани, ре — понятно, Ривка, Соломон — соль, ну а Андрей Петрович получил фа за то, что он много болтает, как сказала Ривка: фа-фа-фа.. Андрей это стерпел. От Ривки он стерпел бы все, что угодно.
Они крепко дружили все — Дани, Ривка, Соломон и Андрей Петрович.
В армию они пошли одновременно и все в разные места, но каждые выходные, приехав домой, они неслись к своему столику и стульям-пенькам, кидали рюкзаки, выкладывали, кто что захватил, и смеялись, смеялись…
А вернувшись из армии, они поклялись Вечной Музыкой, что как бы все ни сложилось в их жизни, они будут приходить сюда хотя бы раз в месяц, седьмого числа. А кто не — тот пустой барабан и предатель.
Так оно и было. Сначала они встречались каждую неделю, потом все реже, но каждый месяц, седьмого числа в семь вечера Шломи, подходя к их столику, знал, что он увидит рыжую макушку Фа, спокойные серые глаза Ре и черные кудряшки До. Это было так же нерушимо, как жара летом. А когда у Дани родился сын, он назвал его Михаэлем — Ми, которого им не хватало.
Даниэль и погиб первым. В интифаде 14 года.
«Поехали в Иерусалим с женой и Ми, террорист с ножом. Наш маленький Дани кинулся наперерез, получил ножом в бок, умер в больнице. Жена жива, Ми тоже», сухо говорила Ривка, в ее серых глазах стыл иней.
Потом Ривка попала в аварию на четвёртом шоссе, машина загорелась, она не успела выбраться.
Андрей пришёл на встречу смертельно пьяным, стучал кулаком по столу и выл. Не успел он Ривку замуж позвать, все боялся отказа.
После этого он сгорел как-то очень быстро. Пил, болел, снова пил. Умер, улыбаясь. Ривку, говорил, сейчас увижу, дам по шее, что не дождалась…
Соломон, оставшийся одиноким Соль, наутро после смерти Андрея увидел в сером небе чёрное солнце.
В садик он не приходил несколько лет. Музыку ненавидел, пианино продал. Жене Даниэля посылал деньги, но разговаривать с ней не хотел.
А тут шёл куда-то, задумался и опомнился, только когда увидел знакомый стол, смешные стулья — и торчащую рыжую макушку рядом с чёрными перепутанными кудрями.
Сердце его остановилось, он задохнулся.
Вдруг рядом кто-то шепнул: что ж ты, брат, нас забыл?
Он, моргая сквозь слезы, пригляделся. Спокойные серые глаза смотрели без упрёка, но чуточку разочарованно, как всегда, когда Ре была чем-то недовольна. Рядом качал кудрявой головой маленький До, а Фа щурил хитрющие зеленые глаза и приговаривал: нехорошо, брат, музыку бросил, клятву забыл, жизнь свою в землю зарыл… мы же любим тебя, мы с тобой, все будет хорошо, да?
Второклашки, сидящие за столом, смущенно подглядывали на взрослого дядьку, который стоял рядом с ними, смотрел в никуда и шептал что-то, не вытирая слез.
Сероглазая девочка не выдержала, подошла, дёрнула его за куртку: Адони, что случилось? С тобой все хорошо?
Да, ответил он, слабо улыбаясь, да, маленькая, теперь все уже хорошо.

Ветру назло.
В автобусе напротив неё села спокойная молодая женщина, из соблюдающих, длинная юбка, кисуй рош и Теилим в руках. Она читала про себя, быстро шевеля губами, ее безмятежные прекрасные библейски-серые глаза изучали все вокруг — мальчиков из иешивы, людей на остановке, входящую бабушку, а губы шевелились, повторяя древние важные слова.
И Сара вдруг горько пожалела, что она выросла без веры. Как бы ей хотелось знать всю свою жизнь наперёд, читать именно те молитвы в именно тот день, в который положено, твёрдо знать, что хорошо, что плохо — и верить, что ты никогда не будешь одна.
Но ее семья не признавала богов, только науку, только медицину. Папа был лучшим акушером-гинекологом в их городке, мама — его любимой медсестрой.
Сара родилась слишком рано, если бы не папа, говорили ей, она бы вообще не родилась.
Он ее вытащил, лечил от десяти разных болезней, грел в руках, целовал и шептал маленькому птичьему тельцу: держись, моя Сара, держись, мы выберемся с тобой.
Она выбралась, конечно, у папы и не такие выбирались, но на всю жизнь она осталась маленькой чуть кривобокой птичкой-воробышком с испуганными глазами.
Соседка Мири шептала маме на кухне трагическим шепотом про замуж, что никто не возьмёт и про не сможет родить..
Сара затыкала уши и смотрела в окно. Не хочу замуж, не хочу детей, думала она.
Но когда Мири привела в из дом приличного бухгалтера с ее работы, который сказал, что он, да, заинтересован, если, хм, девушка не против, она, помолчав, ответила: нет, девушка не против.
А потом начался нескончаемый тоскливый ад.
Муж яростно хотел ребёнка. Три замершие беременности, каждая рвала ее бедное сердце на куски. Папа хмурился с каждым разом все сильнее, и, в один день позвав ее в свой кабинет, попросил поберечься. Мне, сказал он, внуки нужны меньше, чем живая дочь. С мужем твоим, сказал он, сам поговорю.
Приличный бухгалтер перестал ее замечать, перешёл спать в другую комнату, перестал ужинать дома, и однажды ушёл, вежливо объяснив, что бесплодная жена даёт ему право на развод, так сказано в Торе.
Сара осталась на куче пепла своей семейной жизни. За четыре года она как-то незаметно превратилась в бесполезное тщедушное существо, неспособное даже на самое простое, на что должна быть способна любая женщина.
Так она тихо увядала, засыхала, убеждаясь в своей бессмысленности, ещё два года.
А потом заболел папа. И она поставила кресло рядом с его кроватью и жила там в этом кресле, много ли ей надо было.. держала его за руку после химии, вытирала его рот после приступов рвоты, собирала его пышную шевелюру с подушки..
И думала, думала..
Когда папе стало лучше, она записалась на курсы программирования. Изумлённым родителям она объясняла: там все девушки, это программа для женщин, никто меня не обидит, а я.. я просто хочу жить дальше.
И она жила, старалась изо всех сил, так же как тогда, когда она лежала под лучами лампы в кювете и всеми своими восьмистами граммами старалась выжить.
Она вышла из автобуса и пошла через парк, стараясь успокоиться перед своим первым собеседованием.
Эту пальму она заметила издалека. Поваленная ветром, она вывернулась и продолжала жить.
Она засмеялась.
Это же я, сказала она себе. Это же я живу назло всему.
Я выживу и буду счастливой, сказала она себе.
Я буду счастливой, меня будут любить и все у меня будет хорошо, сказала она себе.
Все у меня будет хорошо, громко сказала она пальме. И пальма ответила : а как же иначе, мами..

Объяли меня воды до души моей*..
«Надо помириться с матерью», — думала Ноа, бездумно глядя на пустой зимний пляж.
Столько лет прошло. И в конце концов она не виновата. Наверное. Все врачи так говорят.
И тут же она согнулась от невыносимой боли.
Нет, не могу, не могу, стонала она, будь проклят тот день, будь проклята… и спохватилась, ударила себя по губам и плача, просила прощения — у матери, у неба, у бога…
«…объяли меня воды до души моей, и не на чем встать..»*, шептала она, вцепившись в жёсткий кривой ствол дерева, росшего у обрыва над морем.
Тогда, четырнадцать лет назад, она была такой счастливой и молодой.
Но ее синеглазой Мири был всего лишь месяц, когда она упала на каменный пол. Она лежала, такая невыносимо крохотная и жалкая, лицом вниз и не шевелилась. А Ноа летела к ней, как в замедленной съемке, не успевая, ещё ничего не понимая, под звук дикого визга. Визжала ее мать, которая уронила Мири и сама остолбенела от ужаса, только визжала и визжала…
Она так и не простила мать.
Когда через год Мири поставили диагноз аутизм, а ещё через пять лет, отводя глаза, сказали, что она никогда не сможет жить самостоятельно, Ноа прокляла и тот день, и ту, с которой она никогда больше не разговаривала.
Все врачи убеждали ее, что это падение никак не могло стать причиной аутизма, что никто не знает, почему некоторые люди рождаются аутистами, что аутизм не болезнь, а состояние души…
Она слушала их, упрямо смотрела в пол и ненавидела мать.
Ей предлагали интернат, она возмущённо отказалась.
Мири не говорила, не смотрела на людей, не ела, не одевалась сама.
День за днём она пыталась достучаться до своей нежной девочки, увидеть ее улыбку, заглянуть в ее синие глаза. День за днём обнимала и прижимала к себе, несмотря на мирины яростные крики и протесты.
День за днём она молилась.
И вот сегодня она поняла, что устала. Устала бороться, ненавидеть, надеяться.
«…я в глубоком болоте…я изнемог от вопля»*, бормотала она, прижимаясь к дереву, сухому, как ее душа.
Но вдруг весенний ветер сорвал с неё платок, растрепал ее волосы, принёс ей запах цветов и трав из пустыни, и она сквозь слезы улыбнулась.
«Вот, зима уже прошла. Дождь миновал, перестал»**, вспомнила она.
И казалось ей — она дома, пытается расчесать мирины непокорные кудряшки, и повторяет: «…цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей»**
И Мири, ее маленькая нежная девочка, поднимает на неё свои невозможные синие глаза и говорит: «Ма-ма? Мама…»
И она, захлебываясь слезами счастья, прижимает ее к себе и шепчет: «Мириле моя, Мириле! Теперь все будет хорошо, родная, только не молчи больше…»
Женщина с растрёпанными волосами, вцепившись в старое сухое дерево над зимним пляжем раскачивается, не вытирая слез, улыбается и шепчет: «Все хорошо, девочка моя, все теперь будет хорошо…»
* пс 68
** Песнь Песней, 2-12

Цветы Израиля
Она любила чертополох, ей нравились его изящные цветы и колючий стебель. Настоящий мужчина, смеялась она, суровый с виду и нежный в душе.
Ави она поэтому и звала чертополохом, обычно хмурый, он с ней смеялся и дурачился, даже стихи один раз пытался ей написать. Она хохотала и говорила: я тебя и без стихов люблю, колючий мой!
В армию им уходить одновременно получилось, вместе и отвальную гуляли, до утра почти. А когда все заснули по диванам и кроватям, Ави потянул ее за руку: пойдём, поднимемся напоследок!
Это у них было такое тайное место в горах, на самой верхушке казалось что весь мир внизу, а они над ним летят, как птицы.
И чертополох там расцветал только для них, ага.
Им вышло служить в разных местах, вот горе было, когда Эли узнала, что она остаётся на Голанской базе, а его отправляют на юг, в Сдерот.
— Только посмей сунуться, куда не надо! И под ракеты не лезь… — бессмысленно приговаривала она, сдерживая слезы и дергая себя за кудряшки.
Он отмахивался: — В штабе буду сидеть, бумажки писать, клянусь.
В танковых, ну да, там одни бумажки…
А на горе он вдруг с занывшим сердцем ее попросил, сам понимая, какую глупость просит:
— Эли моя, если вдруг тут у вас начнётся, пообещай мне никуда, никуда не лезть, скажи, что тебе плохо, тошнит, что ты беременна, тебя не пошлют на самый край, прошу тебя!
Она его крепко обняла.
— Ничего, — шептала она, — ничего, скоро увидимся, все будет хорошо.

Три башни Азриели.
Она говорила:
Квадратная башня самая нормальная. Четыре нормальных угла, стены параллельные, а не бог знает что… не понимаю я этих изысков архитектуры. Хотя смотрится ничего, красиво. Снаружи. В треугольнике я бы вообще ни минуты не продержалась, честно…
Он говорил:
Как же мне нравится эта безумная ассиметрия, острые углы и непонятные закоулочки, как я люблю эту нашу треугольную башню. Как же скучно, наверное, этим беднягам в квадрате! Ну, или они сами такие скучные и квадратные…
Она говорила:
Что это за глупости насчёт того, что работа должна приносить радость? Работа — это всего лишь работа, она по определению не может приносить радость, я это делаю ради денег, которые мне нужны, чтобы жить, и точка. Радость мне приносят мои книги, мои цветы и самолёт в Европу. А моя работа пусть приносит радость моим начальникам, раз я ее делаю настолько хорошо, что меня никак не могут отпустить в отпуск.
Он говорил:
Не представляю, как живут люди, которые ходят на работу…ну, как на работу, без радости, без крыльев, без азарта. Конечно, я, как говорится, человек творческий, мне этих бабочек в животе по три раза на дню муза запускает, но ведь и у какого-нибудь бухгалтера тоже звёзды в цифрах могут сиять? Или нет?
Она уходила с работы через торговый центр, что в круглой башне. Любила прошвырнуться по магазинчикам, поглазеть на людей в кафешках, накупить какой-нибудь милой и ненужной мелочи — и ожить, стряхнуть рабочий имидж, выкинуть из головы все эти цифры и проводки, вернуться к своей музыке, книгам и цветам.
Он редко заходил в круглую башню. Главным образом, потому что часто уходил домой слишком поздно, все уже было закрыто. Ну и не любил он эти шумные и разноязыкие толпы. В его голове и так было слишком много идей, красок и звуков.
Невероятно, но каблук сломался прямо на эскалаторе, шпилька застряла в решетке, досада жуткая, она ещё собиралась встретиться с тем мотеком из твиттера, может, на этот раз ей удалось бы продержаться дольше получаса и не уйти раздражённой и разочарованной.
А вместо этого она практически лежит на поручне и нервно хихикает от всей этой глупости — ногу не вытащить, туфлю бросить жалко, эскалатор кончается…
Ему пришлось уйти с работы пораньше. Мама устроила скандал и выставила ультиматум: либо он приходит сегодня на чай, либо не приходит вообще. Понятно, что на чай придёт и тетя Зося с какой-то новой ученицей. Мама мечтала о творческой паре — одна из тетизосиных пианисток и он, художник и дизайнер. (Мама говорила «дизайнэр»). Скукота. Ещё и за пирожными тащиться в этот дурацкий торговый центр.
Он ее успел выдернуть чуть ли не в последнюю минуту, глупая девчонка рисковала остаться без ноги, никак не могла расстаться со своей туфелькой, застрявшей в решетке эскалатора. А она стояла и ржала в голос, сумасшедшая и красивая. Очень красивая.
Она смотрела ему в лицо, не переставая смеяться, и думала: я искала тебя всю свою жизнь, гад ты такой, где ты пропадал?
Он смотрел ей в лицо и думал: если она сейчас повернётся и уйдёт, я умру. Я просто сяду и умру вот тут на скамейке у эскалатора.
Знаешь, сказала она, мне кажется, у нас много общего. Нам надо немедленно обсудить, как так получилось, что мы до сих пор не встретились и потеряли так чертовски много времени.
Знаешь, сказал он, ты только что спасла от смерти хорошего человека.
И они пошли в кафе — такое важное дело надо было отметить.
А потом пошли домой — и больше никогда не расставались.
Даже когда она днём сидела в своей квадратной, а он — в треугольной башне, они были вместе и слышали дыхание друг друга.
А вечером они встречались у того самого эскалатора в круглой башне.
Мама, кстати, перестала сердиться уже через неделю. Сказала, ну и что же, что бухгалтер, главное, чтобы у вас все было хорошо, Барух ашем!
И все у них было хорошо.